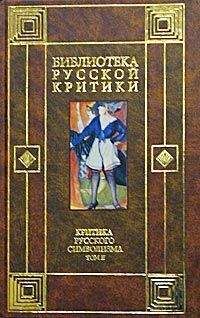Автор неизвестен - Журнал День и ночь
г. Абакан
Сергей Нелюбин
Качаясь на волнах
Филипповка
Безумие моё, из городского гама,
Мышиной толкотни, машинной трескотни.
Я падаю в тебя, и Тихим океаном
Меня уносят сны…
Не слышу ничего, я ничего не слышу,
Я, лёжа на спине, качаюсь на волнах
И глубина одна, со дна мне в спину дышит
И глубина, и тишина одна…
Безумие моё, ты знаешь, я не стану
Винить весь белый свет или сходить с ума,
Когда-то и в мою ладонь стекло стакана
Врастало, но теперь — я сам себе вина.
От этого легко и совести, и телу
Не должен никому, ни у кого — в долгу!
Безумие моё, чего же ты хотело
Вот я. Перед тобой. Я на спине плыву,
Как на кресте, вода мне лижет руки
Я глух и нем, я слеп, в конце концов,
Мне рoвно всё — нет куража, нет скуки
И только солнце греет мне лицо…
Если нервы — железо, то без проявлений вовне,
Но рука только дрогнет, как лезвие выбьет из паза,
Город выплюнет пулю наездника в синей броне
Перепуганной «Мазды»
— В ночь! Когда всё пропало, и даже коньяк не берёт,
Тормозов не хватает, и их отпускают так резко,
Что сметают соседа по лестничной клетке, в спасательный плот
Превращая машину, дремавшую у подъезда.
Э-эх, куда тебя, парень? Телега не может летать,
Чтоб проветривать мозг дураку, пока визг телефона,
Вдруг не сдавит удавкой бесцветной и тонкой — стоять!
Там звонили, приятель. Пора заворачивать коней.
Новых стихов не пишем.
Этой эпохой дышим.
Слышишь, в подполье, мыши
Вьют свои гнёзда впрок.
Скоро придёт на смену
Серых и наглых племя,
Это не наше время
Пишет нам эпилог.
Мы им уступим место,
Если признаться честно:
Что там, конечно, лестно
В лавровых быть венках,
Только на этом свете
Мы не за всё в ответе,
Пусть же приходят эти
С лезвиями в зубах.
Вычислят нас по крапу,
Выпасут нас по картам,
Вломятся к нам, нахрапом
Вскрыть тайники души,
Но мы уйдём, не проданы,
Звёздными огородами,
Строками и аккордами
Стихнем в родной глуши.
г. Владивосток
Игорь Кудрявцев
Поклонник Терпсихоры
Проводы
— Какай давай, не балуйся. — сказал Вовка, худой длинноволосый малый, сидящей на горшке сестрёнке. — Что же мне с тобой делать-то, Ленка? Совсем нас с тобой мамка забросила… вот сейчас возьму тебя с собой в армию…
Ленка — лысенькая, мордастая девчонка двух лет, — сидела, улыбаясь одними глазками-блюдцами, на горшке и что-то лепетала ему в ответ на своём тарабарском языке. На полу валялся пьяный вдрызг отец и вторил ей, только уже на каком-то другом наречии. Пузатый щенок, обхватив отцовскую голову лапами, теребил его мясистое, красное ухо. Вовка отпихнул щенка в сторону:
— Отгрызёшь старому ухо. он и так ни фига не слышит.
Послышался стук в дверь, затем хриплый старушечий голос:
— Хозяева! Есть кто дома?!
Вовка выбежал в прихожую. На пороге стояла морщинистая, губастая старуха в ветхом пуховом платке и замызганном пальто.
— Здравствуй, милый сын! Мне бы Капитолину. А ты не старший ли её будешь?..
— Да, сын… — буркнул Вовка в ответ. — Она, вон, пьяная лежит.
— Я соседка ваша… чифирнуть захотелось, думала, Капа мне чайку немного в долг даст, а она — вон оно что…
— Сейчас я посмотрю… — сказал Вовка и пошёл на кухню искать чай.
Старуха поплелась за ним:
— Что-то я тебя, сынок, не видела раньше.
— Да я два года в институте учился. бросил. теперь в армию забирают.
— Когда берут-то?..
— Сегодня. Повестку уж получил. Мне через полтора часа уж в военкомате нужно быть.
— Ой, милый сын!. жалко-то тебя как!. и волосики-то твои, сердешный, состригут!.. — запричитала старуха, протягивая свою дребезжащую сухую ручонку к Вовкиным длинным, спутанным лохмам.
Вовка пошарил по всем полкам, — чая нигде не было:
— Нету! Бабк, может тогда выпьешь?.. водки — море, жалко, добро пропадает.
Старуха заулыбалась, выпятив свои негритянские гофрированные губы:
— Отчего ж не выпить. выпью.
— Пойдём в ту комнату, а то у меня там сеструха одна, на горшке сидит.
Они пошли в комнату.
— Как звать-то тебя? — проскрипела старуха.
— Вовка.
— А меня — тётка Маня… Ой, Иван-то хорош… гля-ко ты, как развалился, лысый х..! — она увидела лежащего на полу отца.
Ленка ездила под столом на горшке, который прилип к её попке от долгого сидения. Вовка вытащил её из-под стола, со звуком оторвал от попки горшок, надел на сестрёнку колготки и пошёл выплёскивать её добро на улицу.
— Леночка, какая большая стала! Иди к тётке Мане, красавица!.. — затрещала старуха, протягивая к ней руки.
Вовка быстро вернулся; бабка Маня сидела за столом, держа Ленку у себя на коленях, — та смеялась, показывая бабке свои маленькие зубки.
— Хорошо тебе, Ленка… — сказал Вовка, гладя сестру по голове. — Всё-то тебе весело, и ничего-то ты ещё не понимаешь.
Он налил стопку водки и придвинул её к старухе; та выпила и разговорилась:
— У меня тоже сын… один, да непутёвый. Пятую ходку делает. Я его сама на зоне родила, четыре месяца ему было, когда вышла.
Вовка налил ей ещё стопку.
— А ты сам-то чего ж не пьёшь? Пей, пока можно. — сказала старуха.
— Неохота! Хочу трезвый рассудок сохранить… — Вовка взял у неё Ленку и посадил к себе на колени. Тётка Маня выпила и совсем разомлела:
— А где ж друзья твои? Что один?.
— Друзья давно все в армии служат. Я один остался. — Вовка закурил.
— Милый сын, дай мне тоже сигаретку.
Вовка дал старухе сигарету, спички; та закурила, с шумом выпуская дым. Вовке показалось, что её лицо сразу сделалось таким же серым, как её замызганное пальто, а губы ещё больше сморщились.
— Ты не смотри, что я, бабка старая, курю… это меня Германия научила. меня в войну, девчонкой ещё, немцы в плен угнали. В Австрии была, у помещика одного. Там и научилась. Потом союзники, американцы, освободили. А я немецкий хорошо тогда уже знала… домой вернулась, и… в комендатуру попала. В комендатуре два года переводчицей работала.
Старуха заправила дрожащей рукой выбившиеся на виске седые волосы в платок, и Вовка снова заметил, что всё у неё какое-то серое: и замусоленное пальто, и платок, и седые волосы, и скрюченные руки, и лицо, и даже выцветшие радужки глаз.
— Слушай, бабк, может, ты посидишь с Ленкой, пока они немного очухаются? Мне уже идти надо… не оставлять же её одну. А ты ешь, пей тут, чего хочешь. — вдруг сказал ей Вовка.
— Ой, милый сын, конечно, посижу! Мне, старой, всё делать-то нечего одной, — всполошилась бабка Маня, и по лицу её было заметно, что она даже рада, что её оставляют за столом, полным водки и закуски, да ещё с Ленкой, с которой она не сводила влюблённых, липких глаз. Вовка, довольный неожиданным решением проблемы, пошёл собираться. Он скидал в вещмешок, сшитый намедни матерью, свои скромные пожитки: сигареты, тетрадку и пачку дешёвых конвертов, авторучку, полбуханки хлеба и две банки рыбных консервов, нитки с иголкой, бритвенный станок и зубную щётку. Подумал — положил в вещмешок две бутылки водки, надел отцовскую рабочую фуфайку и кирзовые сапоги. «Ну вот, кажется, и всё.» — подумал Вовка и ещё раз оглядел свою комнату. Взгляд его наткнулся на книжную полку; он подошёл к ней, взял подаренную ему друзьями по институту книгу рассказов Фёдора Сологуба, положил её сверху в вещмешок, потом туго его завязал и, не оглядываясь, вышел из комнаты.
Вовка подошёл к Ленке, взял её на руки, уткнулся лицом в её пахучую грудку и чуть не заревел, — комок подкатил к горлу и слёзы заволокли глаза; он с трудом выдавил из себя улыбку:
— Всё, Ленка, ухожу!
Сестра поняла, что происходит что-то грустное и удивлённо уставилась на Вовку, готовая в любую секунду заплакать. Он чмокнул её в щёчку и поставил на пол.
Бабка Маня снова запричитала:
— Ой, милый сын, жалко-то тебя как. Славный тако-ой… и волосики-то твои все состригу-ут!
Вовка вдруг вспомнил — мать просила вчера оставить ей волосы на шиньон. Он взял с комода ножницы и пошёл к матери в спальню. Мать лежала пьяная на постели. Вовка потормошил её, та не отреагировала. Он подошёл к зеркалу, в последний раз полюбовался на свои кудрявые патлы, которым позавидовала бы любая девчонка (он растил их четыре года), и стал отстригать их отдельными прядями у самых корней и складывать рядом с матерью, на изголовье кровати. Вовка обстриг все волосы, — в зеркале на него смотрел совершенно другой человек: сразу оттопырились уши, на подбородке краснели пятнышки прыщей…